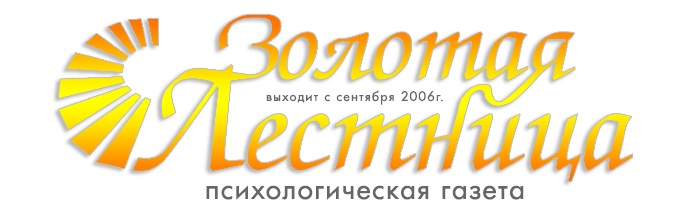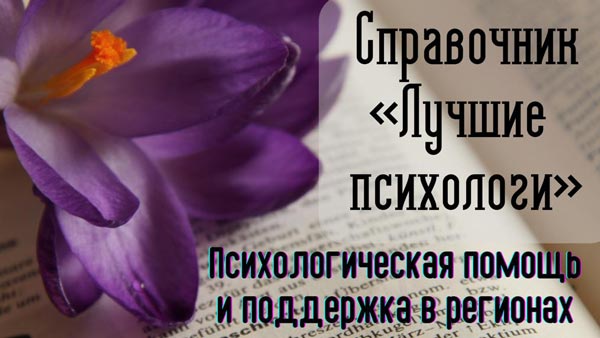Игорь Гомольский © Правда ДНР
Он не считает себя военкором, скорее, журналистом, патриотом и обычным дончанином. Игорь Гомольский, донецкий журналист и блогер – о войне, рабочих и личных историях, жизни фронтового города и о том, почему он не уехал из самого тревожного Петровского района.
– Какой ваш город, Игорь?
– Разный. Если уж о каком городе можно сказать, что это город контрастов, то Донецк – как раз такой. От района к району, порой даже от улицы к улице, все очень сильно меняется.
– Сейчас город, наверное, сильно изменился по сравнению с тем, что был?
– Очень сильно. Помню, в 2012 году я покупал подарок человеку на Новый год. У меня было времени час, я выскочил из редакции, проехал три остановки забрать подарок. Немножко не рассчитал с габаритами. Пока шел пешком, встретил сотни людей, шедших навстречу. Я не мог пробиться через толпу. Сейчас можно идти по центральной улице и встретить одного-двух человек, которые идут куда-то по своим делам. Я уже не говорю про бизнес, внешний вид, про инфраструктуру. Понятное дело, война это все не щадит.
– Расскажите о себе. Меня интересует Игорь Гомольский, человек, военкор, который и воин, потому что диктофон и камера – его оружие, и житель фронтового города, города-героя и города-мученика.
– Мы с коллегой тут три дня назад сошлись на том, что военкор и воин – это Александр Сладков, который посвятил свою жизнь работе на войне и, по сути дела, выбрал войну. Мы войну не выбирали. Это война выбрала нас. Мы занимались совсем другими вещами, но, волей случая, своих решений, своего выбора стали тем, кем стали. Я все-таки предпочитаю термин «журналист», потому что война – это слишком узкопрофильно, когда человек отслеживает, куда пошли батальоны, где они что захватили. Меня в войне интересует человек, а не батальон. Что еще сказать? Я живу работой, по большей части, моя жизнь – это, как раз, работа. Я, наверное, на ней женат.
– Работу выбрали вы, или она – вас?
– Если мы говорим о журналистике в целом, то, безусловно, я ее выбрал. Это профессия, с одной стороны, интересная, и, с другой, в определенном смысле, маскулинная. Это, кстати, забавно, потому что подавляющее большинство людей на журфаке – девочки. А журналистика – работа, которая считается опасной. Я всегда хорошо писал, живо интересовался происходящим вокруг себя. Как говорил мой бывший начальник, журналист должен быть патологически любопытным… В 2014 году мне немножечко поднадоело, и я ушел из журналистики, через пару лет вернулся и в 2018 ушел, как мне казалось, навсегда. Но началась спецоперация. Я снова почувствовал, журналисты меня поймут, вот это ощущение, когда что-то где-то происходит, а ты не там, и тебе срочно надо туда. И я вернулся. Но, в целом, если говорить именно о военной теме, повторюсь, это не мы выбрали войну. Это она выбрала нас.
– И как это – оказаться в эпицентре войны?
– У меня была масса возможностей уехать, и большинство из них сулили какие-то бонусы, какой-то проект, хорошее место. Но это было осознанное решение – остаться. Каково оказаться в центре войны? Это, безусловно, плохо. Это неприятно, это холодно, это жарко, это тяжело психически, физически. С другой стороны, есть свои плюсы. Человек и жизнь предстают перед тобой только здесь. Здесь жизнь такая, какая она есть, без ширмы. Не всегда хорошая, зачастую неприглядная. Есть, безусловно, свои позитивные моменты. В целом, побывать на войне неплохо, чтобы узнать, что такое жизнь, общество, люди, какими они бывают, какие люди хорошие и плохие, и почему они именно такие. Вот это все лучше всего открывается здесь. Потому что война – это такой контраст, на ее фоне всегда все лучше видно. Мир предстает перед тобой во всем многообразии и неоднозначности поступков, «серой морали», и тому подобное. То есть, некоторые поступки тебе могут казаться в мирной жизни ужасающими. А здесь ты четко понимаешь, почему человек поступил именно так, а не иначе, и для этого зачастую есть какие-то свои причины. Опять же, здесь очень хорошо видна вся грязь. И все светлое, все самое лучшее также очень ярко видно.
– Среди множества ваших историй и героев, есть такие, чтобы – среди ночи вас разбуди, и вы вспомните?
– За каждым человеком здесь стоит какая-то история, и она может быть интересной. Вопрос в том, захочет ли он вам ее рассказать. У меня есть товарищ Миша. Миша был «Беркутом» на Майдане, ему прострелили голову. Миша вылечился. В 2015 году вернулся домой в Донецк. Пошел воевать. Ему оторвало ногу, он встал на протез, пошел опять воевать, ему оторвало руку. После этого он выучился на инструктора лечебной физкультуры. И вот сейчас работает с ребятами-ампутантами. Он хорошо понимает, как восстанавливаться после этого психологически, физически, – он это все прошел. Поэтому он может найти с ними общий язык, может им объяснить. Плюс Миша занимается своими волонтерскими инициативами, Миша при этом прыгает с парашютом, занимается скалолазанием. Такой активный парень. Когда у меня спрашивают про какую-нибудь потрясающую историю, я обычно говорю – просто звоните Мише, если вы сможете его разговорить. Миша не очень любит прессу. И, если его просто в лоб начать расспрашивать, он скажет: «Ну, было такое, и было. Давайте лучше кофейку вам сварю».
– А какая ваша история, Игорь? Что-то, что случилось с вами и оставило яркий след в памяти?
– Ну, в 2014 году я очень хотел пройти видеоигру, и меня чуть не расстреляли, как украинского шпиона. Тогда выключалось электричество постоянно. Я здесь жил один, в доме уже почти никого не осталось. Я днем писал какие-то тексты, выходил, гулял, смотрел, что происходит вокруг. А в четыре утра примерно начинались обстрелы. Где-то в полпятого заканчивался обстрел, я ложился спать. А делать всю ночь нечего. Я играл в видеоигры. И в какой-то момент вырубилось электричество. Его не было больше недели, а то и двух. Потом включилось и снова вырубилось. И как раз мне позвонил отец, говорит, я сейчас на Петровке, давай заберу тебя в другой район. Я говорю – да нет, не надо. И тут электричество вырубается. Я говорю – давай, наверное, забирай меня, и иду на место встречи, с ноутбуком, с фотоаппаратом, со всем. И меня перехватили люди, которые сочли, что я шпион. Просто увидели, как человек куда-то бежит. Идет обстрел, а у него ноутбук, фотоаппарат, он куда-то торопится, молодой, физически крепкий. Ну, сложили «два» и «два». Тогда такое часто случалось. Потом меня передали более компетентным людям, те со мной поговорили, сказали, простите, вышла ошибка, заходите к нам на чай. И я ушел домой.
– А почему остались на Петровке, в самом опасном районе? Кто-то еще живет в вашем доме сейчас?
– Да, конечно. Живут люди на Петровке, много кто. Ну, во-первых, это мой район, я в нем вырос, он мне нравится. Во-вторых, я начал в 2014 году вести блог, блог перерос в канал. Это такой момент, когда ты становишься чуть-чуть известным, все знают, что ты живешь на Петровке. А Петровка – это такой хвостик Донецка, многие местные даже не знают вообще, что за мостом есть какой-то еще кусок города. И с 2014 года украинская сторона запускает такие фейки, что вот сейчас мост взорвут, район сдадут. И люди действительно переживают, и, если я уезжаю, тем, кто меня знает, видно, что я не дома, и люди из-за этого нервничают. Сейчас, правда, многие знакомые выехали. Живу здесь уже скорее по инерции, просто потому, что это мой дом. Но был момент, когда реально мне нужно было оставаться здесь, потому, что люди смотрели на меня, знали, что, ага, Игорь дома, значит, все в порядке. Всем же кажется, что я знаю больше, чем все. Поэтому так. Ну, я уеду, и все уедут. И что тогда, район умрет? Так тоже нельзя. И еще такой момент, чисто психологический. Просто упираешься лбом в стену и говоришь: нет, я никуда не уйду. И все. Стоишь на своем. Тоже немножко самолюбия: ты сейчас уедешь, то есть, ты сбежал, получается. Как-то перед собой неудобно.

Донецк. Петровский район © РИА Новости
– Какая ваша война, Игорь?
– Наверное, такая же, как все другие. Но мне она кажется особенно грязной, подлой. Особенно несправедливой. Потому что, главное, ее могло не быть, если бы люди понимали свои интересы, как каждого отдельного гражданина, и уважали интересы общие. У нас большая проблема всегда была в Украине в том, что люди, во-первых, не уважали общие интересы. То есть, мои интересы всегда, причем сиюминутные, всегда важнее интересов целой страны. И это не только о политиках. Можно сколько угодно клеймить Петра Порошенко или Владимира Зеленского, но каждый сотрудник ЦК, который сейчас хватает каких-то мужиков и «мочит» их на фронте, он это делает ради своего сиюминутного интереса: тут заработать денег, тут самому откосить от мобилизации, и тому подобное. А начиналось все с малого: вот я здесь с краю, авось, никто не заметит. И у нас как еще? С одной стороны, все вокруг коррупционеры и негодяи, а с другой стороны, вот мой деверь, он начальник поселкового совета. Молодец мужик, крутится, сам живет, семье помогает, две машины, дом, все, как у людей. И еще, люди не понимают своих глобальных интересов. Ну, вот им сказали: вам выгодно идти в Европу, И они что сделали? Сейчас у нас очень популярно объяснять украинцам, что Европа их обманула. Какие вы бедные, несчастные, вас Украина да Европа обманули, пообещали зарплаты 1200 евро, не дают. А это правда надо? Вы сейчас пытаетесь объяснить Иуде, что он Христа продал, а 30 сребреников не получил. То есть, пытаетесь объяснить людям, которые согласились продать жизни своих соотечественников за хорошую жизнь, что им этой хорошей жизни-то и не дали? Людям, которые продали брата своего? Серьезно? Я думаю, не надо ничего объяснять. Такая вот война. То есть, это то, что, говорят, очень популярно в либеральных кругах, что война в XXI веке – это же невозможно… Это возможно. И другой момент. Нам-то по наивности казалось, что в XXI веке вот такая война невозможна, когда тебя просто объявляют недочеловеками и быдлом на непонятно каком основании. Причем это делают люди с тремя классами образования и таким бэкграундом, что какой-нибудь Чикатило позавидует. И обосновывают через их СМИ, почему тебя можно и даже нужно убить. Омерзительно. Такая война – подлая, она нехорошая, ничего в ней нет ни романтического, ни красивого. Вот недавно, 21 января – обстрел рынка в Текстильщиках, 28 человек в один день убили. Я вас уверяю, там, где это произошло, ничего красивого. Там лужи замерзшей крови, выгоревший участок земли, выбитые окна, венки. Поэтому нечего романтизировать. Нет. Война – кровь, грязь, дерьмо.
– Да, война – это страшная, страшная вещь. Как вы думаете, когда-то мы сможем все это исправить?
– Зависит от того, что мы понимаем под словом «исправить». Где-то в четвертом, пятом поколении, возможно, если мы будем действовать правильно, люди помирятся, у них закончатся противоречия. Но вот так, чтобы мы все, свидетели этой войны, вдруг обнялись и, как мечтал Захарченко – длинный стол от самого Аэропорта, и мы все сядем и будем дружить – нет, такого, к сожалению, не будет.
– Ваша профессия и жизнь во фронтовом городе заставляет видеть много тяжелого, невыносимого. Как выдерживаете?
– А кто вам сказал, что я выдерживаю? Варианта у тебя всего три: умереть, уехать или, как говорят, держаться. Но мы не знаем и не можем сейчас предположить, как на самом деле это все сказывается на нашей психике, потому что за собой не замечаем. И люди, которые нас окружают, обычно ничего не замечают. Более того, издалека приехавшие, они поначалу тоже ничего не замечают. Какие-то моменты тревожные становятся заметны человеку, когда он с тобой довольно продолжительное время общается. Поэтому, как держитесь, где вы силы берете, – сил-то давно нет. Коллеги знают, что такое выгорание, когда ты просто уже настолько глобально устал, что спать ложишься, просыпаешься, и все равно хочешь спать. И даже когда не хочешь спать, ты все равно вялый, сонный, уставший, потому что это все очень сильно изматывает. Непонятно, как отдыхать. Да, можно уехать куда-то на недельку-две, но у тебя остаются друзья, родственники. Ты постоянно, живя не здесь, все равно живешь этими сводками, перекличками, что, в итоге, даже сильнее изматывает. Потому что, если здесь у тебя есть какая-то иллюзия контроля ситуации, то там у тебя есть ощущение, что ты абсолютно беспомощен на что-то повлиять. В итоге это приводит к тому, что ты уже просто еле волочишь ноги. Такое, не очень приятное, состояние. Вот черт его знает, как это скажется в будущем. Может быть, уже сказалось, и я этого просто не замечаю. Может, мы все не замечаем. Но, все равно, личность меняется под воздействием этого прессинга постоянного. Будущее покажет, сможем мы жить мирной жизнью, например, или нет.
– Переклички?..
– Каналы в телеграме, где люди пишут, куда что прилетело. То есть, где-то там громко, где-то обстрел, куда-то кассеты упали, где-то неразорвавшиеся боеприпасы, а где кто-то погиб, все это пишется. Люди делятся информацией.
– Есть ли на войне, в принципе, место чувствам и эмоциям?
– Конечно, есть. Им везде есть место. Другое дело, какое. Они здесь, наверное, притупляются. Ты уже не чувствуешь так остро, например, радость от красиво наряженной новогодней елки. Буквально, при мне, на выходных человеку сообщили, что у него товарищ погиб. И он посокрушался минутку. Другой товарищ подошел, говорит: ну, это война. И тот, первый, с ним согласился, говорит: ну да, война. И все. Поговорили и успокоились все. Понятно, что есть какие-то защитные механизмы психики, потому что, если бы их не было, мы все тут, наверное, постоянно рыдали бы, бились в истерике, совершали самоубийства, но этого не происходит. И, когда видишь, вот, как говорю, 28 человек погибло. Общество пребывало в шоке сутки. Потом все эти механизмы включаются, они тебя заставляют идти дальше и жить. Нет, бывает, безусловно, периодически все срываются, потому что, тут как? Сколько веревочке ни виться… Плюс еще есть моменты. Например, люди, которые здесь 10 лет, при всей своей убитой психике и ущербной нервной системе, это, знаете, как можно пить водку десятилетиями, а можно выпить сразу литровую бутылку. То есть, мы потихонечку этот яд в себя принимали, и у нас выработалась некая такая резистентность. А люди новые, которые приезжают, они сразу попадают под первый же обстрел. И, бывает, какие-то еще тяжелые последствия, никто не застрахован. Опять же, никогда ты не знаешь, что станет последним перышком, которое сломает хребет верблюду, да? Сегодня ты вроде абсолютно стабилен, у тебя все хорошо. А завтра ты просто кричишь: я больше не могу! Мой коллега вот держался, держался, держался много лет, и повоевать успел. Но вот он попал на 1 сентября, когда погибла девочка маленькая в Киевском районе. И все. Он позвонил и сказал: я больше не могу, все, я умываю руки, потому что мне тяжело психологически все это. Поэтому, например, я стараюсь не ездить на обстрелы гражданские, они всегда морально тяжелее. Я считаю, что это «собачья» работа. И люди, которые этим занимаются, – там последствия для психики вообще необратимые. Мне, не говоря уж про все остальные времена, хватило осени и зимы 2022 года, когда просто каждый день – жертвы, обстрелы, развороченные головы, оторванные конечности и все остальное, что человек в принципе не видит в обычной жизни и не должен, да. Ради сохранения здравого рассудка. А ты это видишь, видишь, видишь… И на каком-то этапе тебя это перестает шокировать, а потом перестает вообще волновать. То есть, тебе жалко человека, который погиб, Но тело, которое лежит – для тебя это уже не он, а просто тело, в нем жизни уже нет, это уже не тот человек. Да, тебе жаль, но ты не воспринимаешь, тело не ассоциируется с человеком, которым оно было. И в такие моменты ты понимаешь: мне нужен перерыв, я больше не могу. Как то так.

Донецк. Текстильщик. После 21 января 2024 © Игорь Гомольский
– Какие они, дончане? Есть портрет, характер донецкий?
– Ну, знаете, как… Гвозди бы делать из этих людей, опять же. Но, пока что, в такой ситуации были только дончане. Как бы повели себя в такой ситуации жители другого региона, мы не знаем, и знать не можем. Надеюсь, не узнаем. Поэтому очень трудно судить. Но есть у нас определенные черты. Дончане довольно прямолинейные и бесхитростные. Жутко упрямые и при этом очень, по-детски, добродушные. Они не способны на какие-то вещи… Ну, вот, как человек, который улыбается вам, потому что ему выгодно. Дончане, в целом, люди хмурые, это специфика региона с наукоемкой промышленностью. Но, если они вам улыбаются, то делают это искренне. Грубоватые, но тут трудно судить, почему – так жизнь сложилась, или потому, что мы такими изначально были. Мы еще живем по меркам 2002-2013 годов. Потому что у нас после этого жизнь замерла, и, вроде как, что-то менялось, но при этом мы, как муравей в янтаре, внутри себя варились. И давайте не будем забывать, что все-таки люди Донбасса очень сильно травмированы. Но во многом они отличаются, наверное, умением и желанием любить свою родину и отдаваться ей. Просто потому, что Донбасс – это такой край самураев, которые уже дерутся, потому что дерутся, потому что кругом враги и деваться некуда. Зажали нас где-то над обрывом, а мы над этим обрывом отбиваемся. И неизвестно, когда мы, в конце концов, отобьемся, что будем делать дальше. Опять же, не могу говорить обо всех, но я даже в самом себе не уверен, смогу ли я жить в мирной жизни, потому, что я уже не помню, какая эта мирная жизнь. Периодически выезжаю куда-то по делам, смотрю на эту мирную жизнь, подышу ею и возвращаюсь сюда. Поэтому говорить, смогу я в ней устроиться или нет – не знаю. Посмотрим. Хочется верить.
– Есть ли высшая цель у вашей работы, или это ежедневный процесс?
– Высшая цель – победить. Мы должны победить, должны закончить эту войну, и хотя бы сколько-то лет не возвращаться к ней. Желательно закончить ее на своих условиях, а не как-нибудь. Потому что война, которая заканчивается как-нибудь, всегда возвращается. Вот в данный момент я хочу, чтобы хотя бы столько, сколько можно, преступников понесли наказание за свои преступления. И, что могу, я для этого делаю.
Елена Артемьева
23 января 2024 г.
Елена Артемьева - кандидат политических наук, политолог, генеративный психотерапевт, коммуникатор, писатель, поэт, сценарист, г. Москва